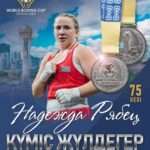Начало здесь
«..В Кустанае, в типографии, несколько наборщиков трудились молча и предельно сосредоточенно: слишком велика была цена любой ошибки. Риск подстерегал на каждом шагу…».
По сводкам Совинформбюро
Подросток десяти лет Даль Орлов увидел Кустанай конца войны не только в очередях за хлебом, но и в ракурсе специфическом. Племянник главного редактора газеты «Сталинский путь» видел, как делается газета по сводкам Совинформбюро.
«Сводки приходили в редакцию по специальным волнам радио. Девушка в наушниках записывала вслед за московским диктором – он диктовал медленно, с расстановкой:
«Войска… первого… повторяю… первого Белорусского фронта…запятая… обойдя с севера… город Моздок… повторяю… город Моздок… запятая… вышли к первой оборонительной… линии противника и… запятая… подавив огневое сопротивление…запятая… закрепились на левом берегу реки Свия… по буквам Сергей… Владимир… Иван… Яков… Свия…».
Текст перепечатывали на машинке, набирали в типографии, его тщательно вычитывали в корректуре и только после всех этих ответственных действий он подписывался в печать. Что-то перепутать можно было на любом из этапов, но путали редко. Практически никогда».
В ожидании «Боевого киносборника»
Кто работал в редакции в военные годы? Мальчишка Даль Орлов, все увиденное в Кустанае, относил к достопримечательностям города. В первом томе книги «Личное время. Рассказы о своих» написано:
«Кроме Соломона Григорьевича Ициксона никого из сотрудников редакции вспомнить не могу. Был отдален от них, прежде всего, возрастом. Одно, правда, исключение было. Вспоминается обшарпанное нутро кинотеатра с обрезанным верхом. Снова погружаюсь в густую влажную атмосферу зрительного зала, и солидарное с залом ожидание «Боевого киносборника», после которого обязательно последует что-то неотразимо увлекательное с Целиковской, Кадочниковым, Чирковым или с Лидией Смирновой, с которой через многие годы поедем от «Советского экрана» в приполярный Надым выступать перед газовщиками. И с Чирковым успею подружиться, но это потом. А пока в том тыловом кинотеатре на соседнее место падает сотрудник Мониной редакции – то ли спецкор, то ли ответсекретарь – видел его обычно озабоченно пробегающим по коридору редакции с гранками. Сейчас он что-то бормочет, типа «узнал, присяду». Приваливается плечом, окатывая перегаром и облаком застарелого пота. Должность его я не знал, но знал, как и все в редакции, что в Ростове-на-Дону, когда вошли немцы, погибли его мать, жена и два малолетних сына. В редакции его жалели, хотя он никогда не бывал полностью трезвым. И еще он умел говорить обо всем прозаическом стихами – как казах Джамбул Джабаев или поляк Адам Мицкевич. Оказался подобный феномен и в редакции Кустанайской областной газеты «Сталинский путь».

Страница из книги Даля Орлова. Переписка с отцом. Адрес отчетливый – Кустанай, Комсомольская, 44.
Польские пиджаки
«Словесный виртуоз», как назвал Даль Орлов польского поэта Адама Мицкевича, видимо, неслучайно ему припомнился в кустанайском бытие.
«Достопримечательностью города были поляки. Жили они как бы отдельно, на особинку. И женщины выглядели как-то не по-нашему прибранными, и немногочисленные старики и бодрые подростки впечатляли приталенными пиджаками. Несколько польских семей обитали недалеко от нас в домиках, мелкими окошками прильнувшими к земле. Было известно, что там шьют. Из оставленных отцом зеленых суконных галифе мама как-то заказала мне китилек, этакий френч по фигуре, с подкладными плечами, с рядом пуговиц по борту. Он получился так вызывающе хорош, что я наотрез отказался появляться в нем в школе. Затравили бы товарищи по классу. В прямом, школьном и более общем, социальном смысле этого слова.
Между прочим, у тех поляков была и художественная самодеятельность, почти социалистическая по содержанию и почти национальная по форме. То ли сами они тянулись к искусству, то ли жизнь в дружной семье народов заставляла. Помню, на маленькой дощатой сцене паренек и девушка исполняли известную тогда песенку с хлестким припевом «Фронтовая борода для солдата не беда». Утверждение выглядело смелым, поскольку противоречило фронтовому уставу. Он – в черной наклеенной бороде – выделывал сапогами нечто в русском стиле, она тоже отплясывала, мелькая упругими икрами и крутя пестрой юбкой. Утепляла этюд игривая загадочность: то ли она уже полюбила, то ли еще собирается. С пола перед первым рядом эти метания смотрелись отлично, до сих пор помнятся…».
«Был брошен клич»
После войны старший Орлов – Константин – увез семью из Кустаная в Тбилиси, к новому месту службы. Из Грузии – в Москву, где Даль окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова с серебряной медалью. Через годы он работал в Госкино, и без его визы ни один киносценарий не принимали в работу. Золотой век советского кино хотя бы отчасти обязан Кустанаю конца войны, и наоборот. Я к тому, что публицистика Даля Орлова в связке с его феноменальной памятью оставила нам яркие и нестандартные картинки из жизни глубоко провинциального, родного нам города.
«Когда пришла весть, что крестьянский сын Ваня Павлов, родом из недалекого от Кустаная поселка, за 250 боевых вылетов «с атакой на технику и живую силу противника», как было сказано в наградном представлении, получил первую свою Золотую Звезду, кустанайцы в ответ решили показать, что способны на многое ради обороны. Был брошен клич, и быстро собрали личные пожертвования, которых хватило на выпуск четырех новеньких штурмовиков! На борту одного из них была сделана надпись: «Земляку, Герою Советского Союза т. Павлову от трудящихся г. Кустаная». Сегодня нелегко представить, что реально значило для каждой семьи – оторвать от личного бюджета часть и отдать на самолет. Но люди шли на это, хотя и голодали. Как ни мал был Кустанай, но посылал в небо свои самолеты».

«Увидеть воочию, просто на улице!»
Большую часть информации о событиях в городе и в области племянник главного редактора черпал из газеты «Сталинский путь», которую читали все и каждый, тем более в семье Ициксонов-Орловых. Но еще больше давала улица.
«И вот спешу куда-то по улице Ленина и – потрясение: навстречу идет Иван Фомич Павлов! Знал, что герой в городе, все знали. Но чтобы так повезло – увидеть воочию, просто на улице! Он шел под руку с девушкой – невысокий, ладный, при капитанских погонах, на груди – две золотые звездочки и гвардейский знак. И – всё! В отличие от Леонида Беды по будням Павлов других наград не надевал. При наличии двух геройских звезд не считал, видимо, необходимым. От неожиданности я одеревенел, а пропустив пару мимо, как завороженный двинулся вслед. И был не один. Внушительная толпа сопровождала этих двоих, неторопливо идущих по тротуару, видимо, к городскому парку. Никто их не догонял, не приставал, благо, и селфи тогда еще не придумали, все держали дистанцию, осторожно меж собой переговариваясь как в реанимации. Я пошел со всеми. Я разглядывал Героя со спины, и обычная крепкая молодая спина под гладким офицерским сукном казалась мне наполненной необъяснимой значительности, а проще сказать, она мне казалась необыкновенной. Девушка, что была при Герое, выглядела смущенной, но она, надо сказать, мало кого интересовала. Потом я видел Ивана Павлова в редакции «Сталинского пути». У него была голливудская внешность. Даже когда он сидел, было видно, как он складен и даже элегантен».
«В ночном полёте»
Мы были фанатами Ивана Павлова – Даль Орлов и корреспондент «КН». В числе многих горевали и гордились. Я продолжаю нести наши общие эмоции, а Даль Константинович оставил слова о Павлове, в том числе эти:
«Он погибнет вскоре после войны, в ночном полете, при освоении новой реактивной техники. Ему было 28 к тому времени, майору, командиру авиаполка»
Продолжение следует…