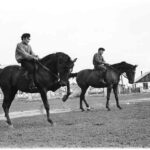И снова мы обращаемся к имени нашего выдающегося земляка Миржакыпа Дулатова. Тем более, что есть весомый повод: 20-го ноября исполнится 140 лет со дня его рождения. Человека, настолько разносторонне талантливого, что невозможно в двух словах просто перечислить все его интересы и свойства.

А что мы конкретно знаем о нем, кроме общих слов про его недолгую яркую жизнь и трагическую судьбу? Кто читал его роман «Несчастная Жамал» или может вспомнить хотя бы кусочек из его стихотворения «Пробудись, казах»? А кто знает историю его возвращения из небытия домой, в родной аул с поэтическим названием Кызбель (Девичий стан)? В этот юбилейный год вышли в свет и его книги, и воспоминания о нем. А мне удалось поговорить с человеком, который очень много сделал для того, чтобы имя Дулатова вернулось из небытия. И не только имя.
Оказалось, что мы давно знакомы с ним, журналистом и писателем. Учились на одном факультете и едва ли не в один год. Потом работали рядом, он в газете «Костанай таны», я в «Костанайских новостях». Потом Кайсар Алим ушел в республиканскую газету «Егемендi Казахстан», кроме очерков и прочих журналистских материалов писал книги. О герое Чернобыля Леониде Телятникове, о Жансултане Демееве. Мне же сегодня интересны его материалы о Миржакыпе Дулатове, которые отлились в документальную повесть «Возвращение из небытия». В ней я нашел ответы практически на все мои заранее заготовленные вопросы в связи с грядущим юбилеем.
 Халел Габбасов, Миржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Мухтар Ауэзов, Жусипбек Аймауытов, Алкей Маргулан, Абдолла Байтасов. Кызылорда, 1926 год.
Халел Габбасов, Миржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Мухтар Ауэзов, Жусипбек Аймауытов, Алкей Маргулан, Абдолла Байтасов. Кызылорда, 1926 год.
В основе этой документальной повести лежит история возвращения на родину останков Миржакыпа Дулатова, к которому, как оказалось, очень даже причастен уже знакомый мне Кайсар Алим. Он ответил на все мои вопросы, по телефону и своей книгой, которая не отпускала меня дня два — три. И в ней не только рассказ о том, как возвращали в родную степь его выдающегося сына, но и многие подробности о жизни Миржакыпа, его семье, окружении и даже слухах, которые некогда бросили тень на его честное имя. Да, было, к сожалению, и такое, семья пережила и равнодушие, и забвение.
— Кайсар, мне говорили , что вы очень хорошо знакомы с творчеством Дулатова и даже вхожи в его семью?
— Верно говорили, но не полно. Ответ можно найти в моей же книге «Возвращение из небытия», которая вышла на казахском и русском языках. История эта началась еще зимой 1990 года — тогда я решился написать письмо дочери Миржакыпа Гульнар, живущей в Алматы. Творчество и судьба этого человека словно магнитом притягивала меня к себе. И только потом я понял причину такого притяжения, и это было не только желание написать о Миржакыпе книгу.
Наконец, через полгода пришло ответное письмо, оказалось, Гульнар-апа приболела, а теперь приглашала меня в гости. Так я шагнул в мир этого человека. Надо ли говорить, сколько бесценных материалов и впечатлений для своей книги я получил в семье Дулатовых? И сколько душевного тепла было подарено мне этими людьми.
 Оренбург, 1923 год
Оренбург, 1923 год
— А еще говорили, что вы даже оказались в родстве с Миржакыпом?
— И опять же правильно говорили, хотя долгие годы я даже не подозревал об этом, и интерес к его судьбе был все-таки неслучаен. Как-то в разговоре с братом я услышал шежире, родословную семьи Дулатовых. И там вдруг мелькнуло знакомое имя родного мне дедушки Касымбека. Так выяснилось, что Миржакып Дулатов был мне близким нагаши, то есть дядей. Я тогда от неожиданности даже оторопел и подумал, как же я буду писать книгу о дяде, что люди скажут? А брат мне ответил: и правильно сделал, что взялся за эту книгу, кто лучше ее напишет, чем близкий человек? Но книга это далеко не все из того, что я мог и обязан был сделать для возвращения из небытия имени Миржакыпа и его праха.
Миржакып Дулатов был безвинно осужден в1930г. И приговорен к расстрелу, но позднее наказание заменили десятью годами тюремного заключения. Он отбывал ссылку в Соловецких островах и на строительстве Беломорско-Балтийского канала, исполняя обязанности фельдшера в лазарете. Скончался поэт 5 октября 1935 года от сердечного приступа. Решением судебной коллегии Верховного суда Казахской ССР в 1988 г. он был полностью реабилитирован. Оставалось решить не менее важную задачу — вернуть домой останки поэта и мыслителя.
Будучи журналистом ведущей казахстанской газеты, я не раз писал на ее страницах о возвращении праха нашего Миржакыпа в родные края. Этому мешал и чиновный бюрократизм, и равнодушие пустых людей. Казалось, вот уже все сдвинулось с мертвой точки, даже создана правительственная комиссия по возвращению праха Миржакыпа Дулатова на родину. И снова все будто застыло на морозе. Таких сюжетов достаточно в этой истории. К счастью, жизнь полна других примеров. Простая русская женщина из поселка Сосновец, где был похоронен наш земляк, Мария Соколова долгие годы бескорыстно ухаживала за могилой Миржакыпа и сделала все, чтобы она сохранилась до наших дней. Или вот вам другой пример: в этом поселке одна из улиц названа именем Миржакыпа Дулатова, а в школьном музее собираются установить его бюст. В музее районного центра Беломорска можно узнать, что Миржакып был известным и уважаемым человеком не только в Сосновце, его почитали все заключенные Карелии.
 Кайсар Алим в поселке Сосновец. Карелия, 1992 год
Кайсар Алим в поселке Сосновец. Карелия, 1992 год
— Мне понятно стремление вернуть на родину прах своего выдающегося земляка. Но трудно даже представить, как это физически было сделать. Где Торгай, а где Архангельск и маленькая станция Сосновец…
— Из Жангельдинского района выехала на автомобиле целая команда джигитов. А мы с Маратом Абсеметовым, известным ученым, первым в 1990 году опознавшим останки Миржакипа, вылетели из Аркалыка на самолете, чтобы успеть решить на месте организационные вопросы. Потом в Москве пересадка на поезд, и вот мы уже на месте. Сразу же направились к дому Клавдии Михайловны Стенниковой, которая когда-то указала Марату могилу Миржакыпа. Она оказалась открытой и приветливой женщиной лет семидесяти, заведовала местной гостиницей. Быстро вскипятила чай, радушно накрыла стол. И только от души напоив нас чаем, дала ключи от гостиницы.
— Из книги я узнал не только о возвращении на родину души и тела Миржакыпа, но и об отношении простых людей в далекой Карелии к вашей экспедиции…
— Отношение было самое доброжелательное, простые люди поняли и приняли нас, как своих родных и всячески помогали нам в нашем скорбном и радостном деле. Ведь возвращение на родину праха выдающегося земляка это большая радость для всего народа. Его с великим почтением встречали и в Костанае, и в родном ауле Кызбель.
 Кайсар Алим и Гульнар Дулатова
Кайсар Алим и Гульнар Дулатова
— Из этой книги я и сам узнал много нового о творчестве Миржакыпа Дулатова и про обычаи казахского народа. Повесть документальная, но временами лирические образы берут верх над прозой газетчика. Сравнение степи с океаном, на котором юрты кажутся чайками стоит перед глазами яркой картиной. И все-таки кое-что остается недосказанным.
— Что именно, могу развеять все сомнения.
— Все еще бытуют разговоры о розни, которая испортила отношения между другим выдающимся сыном казахского народа Амангельды Имановым и Миржакыпом Дулатовым.
— Все это не более чем выдумки досужих злопыхателей. У них были разные идейные воззрения и дети их знали об этом. Но сама Гульнар-апа рассказывала мне, что однажды сын Амангельды пришел к ней домой и сказал: «Давай подружимся: наши отцы не виноваты перед историей». И они просто обнялись.
Такой вот короткий рассказ о возвращении из небытия души и останков Миржакыпа. За его рамками остались суровые картины северной Карелии, яркие праздники на торгайской земле. Спасибо за них писателю и журналисту, лауреату многих премий Кайсару Алим. И еще нашему «Издательскому дому», который выпустил к юбилею коллекционный тираж книги о Миржакыпе Дулатове. В обложке из белой кожи и с золотым тиснением…
Владимир Моторико
Фото предоставлено автором книги Кайсаром Алим