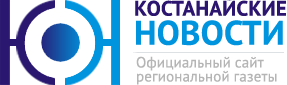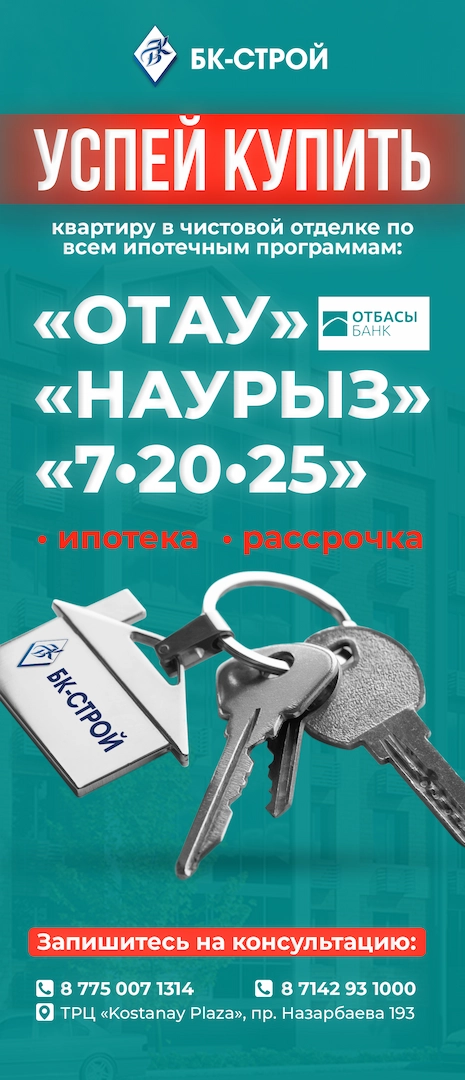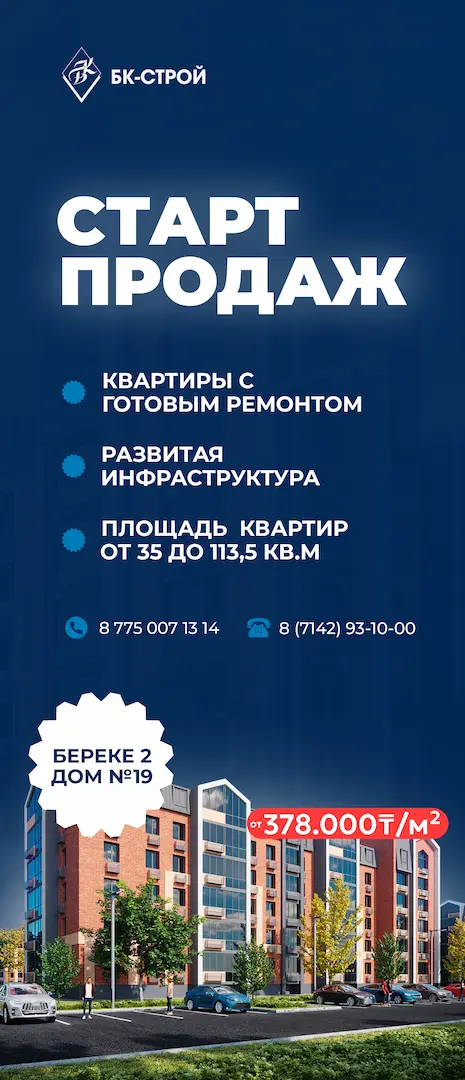О профтехобразовании беседуем с ветераном партийных и советских органов Ниной ВОЛОСОВИЧ.

2022 год. Нина Волосович инициатор возвращения трудового Красного знамени в ТОО «им. Карла Маркса». 27 лет оно находилось в Германии, в семье переселенцев из Озерного
Система
– Нина Ивановна, нынешний год с подачи Президента посвящен рабочим профессиям. В этой связи: почему были закрыты ПТУ вообще и, в частности, в нашем регионе?
– Основная причина – финансирование. Шесть лет я работала в Озерном ПТУ №171. Мы учили электриков, сварщиков и радистов. Могу сравнить это с армией, где солдаты находятся на полном государственном обеспечении. Учеба, воспитание, проживание, питание, обмундирование – полный цикл. Например, в Кустанайском районе было три мощных СПТУ – Озерное, Владимировское и Силантьевское. Они друг друга не дублировали: во Владимировке готовили механизаторов широкого профиля, поваров. В Силантьевском обучали строительным профессиям, швейному делу. Система – великая вещь.
«Униформа, если позволите»
– В Урицке (Сарыколе) я училась в средней школе. Территория СПТУ особо ни с кем и ни с чем не стыковалась. «Пэтэушников» мы отличали по униформе, если таковой ее можно было назвать, особенно плохо выглядели зимние бушлаты и обувь. Не припомню, чтобы были какие-то совместные мероприятия со школами. Девочки-школьницы с мальчиками из ПТУ дружить не хотели и на улицах, грубо говоря, шарахались от них. Сомневаюсь, что только в экипировке дело. Может быть, училища набирали ребят из числа отстающих, побывавших в детских комнатах милиции и т.п.?
– Буду говорить про те училища, которые уже назвала. В базовых селах проживало немало немецкого населения, большие семьи, в том числе неполные, из которых еще не все оправились от последствий депортации. Вы говорите, что наблюдали социальное расслоение в бывшем Урицке, а мы это расслоение «стирали». В Озерном ПТУ было под 800 учащихся из разных уголков области, очень большой инженерно-педагогический коллектив. При училище было два больших общежития: 5-этажное у девочек и три этажа у мальчиков. Часть ребят жила на квартирах, каждую из которых мы посещали, проверяли дисциплину. На родительские собрания приглашали и мам, и пап, но кто-то бывал, а кто-то не мог найти транспорт, или не хотел выслушивать нарекания, если дети неважно учились. А главное – отцы и матери знали, что ребята одеты и сыты, беспокоиться не о чем. Далеко не каждый ребенок имел возможность дома питаться так же, как в столовой училища: на обед первое, второе, салат, компот. По утрам – норма масла, часто сыр, куриное яйцо.
У нас была завстоловой Полина Игнатьевна – старательнейший человек. За ней закрепили хозяйственную машину. Утром рано она ехала в город на пекарню, привозила и мясо. Продуктовую будку постоянно мыли, скребли. Везде была чистота. Начальник управления профтех образования Ефремцев не раз пытался застать нас врасплох. Приезжал без предупреждения и сразу проверял состояние туалетов.
Через контрольные весы
– Профтехучилища поглощали большие бюджетные деньги. Как контролировались расходы?
– Ревизоров хватало. В столовой у нас стояли контрольные весы – ребята могли взвесить свою порцию. Вспоминаю девочку, которая делала это ежедневно. Капризная была: то посуда плохо вымыта, то еда пересолена, то масла в каше мало. Об этом не стоило бы вспоминать, но однажды на каникулах мы разъехались по области в целях профориентации. Бывали в школах и даже по домам ходили. В отдаленном селе, через речку российские земли начинались, зашла в землянку и с порога поняла, что порядка здесь никогда не было. Кричу, есть ли кто дома. И вот заспанная, в грязной рубашке выходит наша капризуля. Я ее сразу в оборот: ну-ка, покажи посуду свою, постельное белье, как ты можешь в такой грязи жить, а в училище все хаять? Она расплакалась, стала просить прощения, а в итоге убедила восемь человек поступить в наше ПТУ. Я это к тому, что именно училище формировало у молодых людей представление о благополучной жизни, давало профессию, с которой ребята могли уверенно и в армию идти, и на производство – путевку в жизнь.
Нож в спину воспитания
– Капризная девочка – еще не проблема. Приводы подростков в милицию, выпивки, драки, мелкое воровство и при старой власти побороть не удавалось. В училище, где сотни юношей и девушек нуждаются не в куске хлеба, а в развлечениях, дисциплину каким образом поддерживали?
– Работой в том числе. Осенью-зимой училище получало уголь. На станции сначала разгружали, потом нагружали тракторные телеги, снова разгружали возле котельной. Чистили снег, занимались благоустройством. Сейчас ученики после себя классы не убирают – это нож в спину воспитания. Что касается правонарушений среди учащихся, то на моей памяти серьезных не было. На выпивке ребят ловили, на разборках, одного парня я не дала посадить, он сейчас живет в Германии и до сих пор говорит «спасибо».
Голые стены
– Вспоминаю, как мучительно закрывали Владимирское СПТУ. Все там искали пятый угол. Мы с фотокором Сергеем Мироновым приехали туда в конце 2014 года, и в «КН» вышел материал «Голые стены рабочих профессий». Прошло десять лет – рабочие профессии выходят на передовую, но голые стены все-таки остаются.
– А я вспомню события полувековой давности. В сентябре 73-го года начала работать в Озерном ПТУ, а 3 января 74-го меня направили на учебу в Международный институт профтехобразования в Ленинград. Нас там много чему научили. Но когда я вернулась, Александр Михайлович Гаража, директор училища, сказал: «чем в Ленинград, лучше во Владимировку поехала бы, там не только теории научилась бы, а тому, что тебе каждый день в работе пригодится». Поехала. Директором училища тогда был Виктор Егорович Узингер, известнейший человек в системе проф образования республики. На лацкане пиджака у него сиял значок «отличника». Он был награжден Дипломом за материально-техническое обеспечение СПТУ, за высокий уровень педагогики в училище, за методику преподавания. За один день я получила больше практических знаний, чем за три месяца в Ленинграде.
Представить, что от такого училища останутся голые стены, было невозможно. Но дело не только в стенах. За 50 лет, что прошли с той поездки во Владимировку, я больше не встречала таких преподавателей, как Виктор Егорович. В этом году ему исполнилось бы 90. А в свои сорок он был уже седовласым, мудрым, интеллигентным человеком. Вернуться на новом витке истории к рабочим профессиям реально, но в эту орбиту надо вовлечь наставников, мастеров, преподавателей. И власть.
«И вот приехала Сидорова»
– Нина Ивановна, но вы ушли из системы профобразования на пике этой системы. Почему?
– Моя карьера начиналась с диплома учителя истории. После КГПИ в Озерном я сначала работала заместителем директора училища, потом избрали секретарем партийной организации ПТУ. На очередное отчетно-выборное собрание приехала первый секретарь Кустанайского райкома партии Вера Васильевна Сидорова. Я дар речи потеряла. Вера Васильевна – строгий руководитель. Я даже не представляла, к чему ее визит приведет. После собрания мне сказали, что «завтра, в 11:00», надо быть у Сидоровой в кабинете. Я, конечно, обомлела. Но Вера Васильевна при встрече сказала, что давно наблюдает за Волосович и считает, что пора ей работать на более серьезном участке. Так я стала секретарем парткома в колхозе имени Карла Маркса. На другие участки работы переезжала вслед за мужем. Анатолий Антонович делал зоотехническую карьеру – куда направляли его, туда направлялась и я.
– Что можно взять сегодня из прежней системы профтехобразования?
– Качество этой системы. Не только учить молодежь, но и держать ее, извиняюсь, в узде.