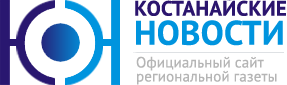Форма речи в русском языке, означающая проспективную память. Пример: когда в тягучие зимние месяцы привычная нам охота замирает, в сознании вырастает кулинарный мостик между былым и будущим. Это не про культ еды. Это про ее мифы и реальности.
Мартына маслом не испортишь
Наследие моего давнего пионерского прошлого, в котором был научно-популярный киножурнал «Хочу все знать», не отпускает до сих пор. Поэтому каждый раз, когда я лечу над джунглями, морскими безлюдными островами или, было дело, над восточно-сибирской тайгой, мой мозг впадает в детство: ему хочется знать. Например, если мы свалимся вниз и выживем, то как долго я продержусь в этом исчадии прекрасной дикой природы, где ни берегов, ни краев? Самый оптимистичный вариант рисовался только со степью. Егерь Анатолий Резниченко меня как-то поучал:
– Ты кугу видел? Ну, разновидность камыша? Так вот, помнишь, на нем сверху просо – это для уток, а низ с клубеньками – это для кабанов. Клубеньки можешь смело есть. После кабанов, конечно. Захочешь мяса – лови зурмана, песчаного суслика. Все, что лежит в наших аптеках – тысячелистник, пижма, лишайник – это у него в меню. Жир у зурмана целебный. Кишки не выбрасывай: в желудке у него увидишь белые зернышки – это эфедрин полевой. Берешь зернышки, высушиваешь и делаешь чай. Сила мужская прибывает невероятная!
Неплохая матчасть для аварийного случая. С сусликом-песчаником и эфедрином в его желудке я продержусь. Он не в тайге. Потому что степь – место, где я вижу горизонты и берега. Однажды мы пробовали готовить чайку – обычного горластого озерного мартына, которого пруд пруди за его охотничью бесполезность. И маслицом его обмазывали, и трав прованских не жалели, и томилитушили его душевно… В итоге? Если только на грани голодного обморока, то есть было можно.

Вторым моим кулинарным испытанием было приготовление птицы, размерами и формами издали похожей на дикого гуся. При ближайшем рассмотрении птица с вытянуто-приплюстнутой головой и хищным клювом больше смахивает на уменьшенную копию африканского грифа-падальщика. У наших рыбаков с бакланом вообще полный раздрай: этот пернатый бандит опустошает их сети. А еще он любит мальков рыбы – может уничтожить до 30%
молоди. Но баклан хорош своей мясистой грудкой. Однако эта опция работает слабо: мясо у баклана неистребимо пахнет рыбой. Конечно, будь я в Ненецком национальном округе, чьи жители, храбрые ненцы, считают за шик томить рыбу в шкуре моржа до полного ее разложения, я бы ничего не имел против. Как говорил один из персонажей фильма «Особенности национальной охоты»: жить захочешь – не так раскорячишься.
Поутру были яйца
Весной мы застряли в березняке. Заехали сюда только за тем, чтобы не маячить на виду у озерной дичи. К вечеру заехали и тогда же поняли, что до утра не выберемся: сырость вокруг стояла неимоверная. Колесные ниши забились травянистой грязью. Осталась лишь надежда, что поутру вдруг объявится трактор.
Ночевали в машине. Ауди100, чей бензобак, как у тепловозной цистерны, – 80 литров. Спать в машине на полуоткинутых передних сиденьях, для прогрева бесконечно включаявыключая мотор и при этом не давая уснуть мозгу из страха наглотаться угарного СО – это из арсенала садомазохистов. В общем, один глаз спит, другой бодрствует.
А поутру нас разбудил вороний галдеж. Птичья слобода тут откладывала яйца, и небольшой реденький околок с огромными гнездами выглядел как базар в воскресный день. Хотелось есть. Горяченького в натуре. Сваренных, например, всмятку яиц. Я полез на дерево, подпираемый плечами друга. В гнезде, будто в крестьянской плетеной корзине, лежало не меньше дюжины сизоватых в черную крапинку яиц. Они были по размеру почти как перепелиные, которые сейчас можно купить в любом супермаркете. Рейд по верхушкам берез наполнил бейсболку почти наполовину.
Воодушевленные новой изюминкой в завтраке, мы стали готовить его на портативной газплите. Шесть минут я варю обычное куриное яйцо. В нем по объему не меньше трех вороньих. Значит, оставляем все те же шесть минут – для крутого яйца норма.
Сварили. Слегка остудили. Очистили. И что там? Там не было белка. Привычного белого упругого белка с ядром из солнечного желтка. Вместо него – стеклянного вида упругая субстанция с темной точкой в глубине. Точка и была желтком по структуре, но не по колеру: желтого в нем не было ни крупицы. На вкус – невыразительные нотки вроде бы чего-то съестного, но безвредного.
Вторую партию мы закинули в котелок, посчитав, что первую варили недостаточно долго, следовательно, белок не успел стать белком. Варили в несколько этапов, увеличивая время кипячения. Ни фига не менялось. Итог: стекловидное, мутноватое и резиноподобное нечто, жевать которое можно, но не пищи ради, а исключительно ради понимания природы вещей. Но если припрет – ешьте смело. Благодарить еще будете.
Симфония шулюма
Во всех остальных моментах охотничьего общепита есть только один король охотничьей трапезы. Имя ему – шулюм. Сказать суп, у меня язык не повернется. Потому что еда на охоте, ее приготовление – это не просто еда, это культ, ритуал, таинство со своими верховными жрецами и секретными ингредиентами. Шулюм, как символ интернационального воссоединения. Не бывает охоты без этого ведического, сакрального продукта.

Морфологические корни шулюма уходят в вековую глубь татаро-монгольского правления, из которого впоследствии кочевой суп стал именоваться то кондером, то гуляшом (казачий юг России), у чеченцев это жижиган-чорпа, узбеки называют подобное шурбой. У наших казахов шорпа – это четкий отсыл к бульону, в котором варилась конина, реже – баранина. Ет етке, сорпа бетке – мясо к мясу, бульон к бульону. Это как библейская заповедь, несокрушимый канон, аксиома в геометрии Евклида.
Шорпа (русскоязычные чаще говорят сурпа), по сути – это животворная жидкость, как у евреев, например, бульон из исключительно домашней курочки. Только наш казахский бульончик с золотистой рябью жирка, сдобренный черным перчиком и приправленный толченым куртом, прямо таки горячий привет из блоковских «Скифов»: «Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами!».
Горячо, правда?
Охотничий шулюм из тех же древних номадских глубин: дичь, костер, луна и космос. Все остальное – лук, картошка, морковь, перец, травы, мясо – элементы творчества шулюмщика, будучи частью его витиеватых вкусовых пристрастий. Никто не вправе лезть к нему со своими подсказками, оттого шулюмщик в компании – это, как правило, верховный непререкаемый жрец.
Главная интрига блюда, приготовленного в черном обугленном казане, обласканном живым огнем из озерных или лесных коряг, в том, что ни один мишленовский ресторан, ни одна печь или высокотехнологичная кухня не способны повторить его опыт. Куски спелого мяса, пропитанные костровым дымом и долгим томлением под звездным небом, наполнен сочным первородным естеством. Мясо, вскормленное на исконно вольных разнотравьях и озерных водах, раскидывается по тарелкам. Ссутулившись вокруг очага, мы едим его, словно прайд львов после удачного загона: с причмокиванием, с протяжным выдохом – о-ооо, горячо то как! Мясо обжигает, наполняет рот густой терпкостью полудикого блюда, потому что никто не знает, из чего оно состоит.
Это как поэзия. Из наития. Насобирал трав, кинул в котел, а далее тонкие пробы языковыми сосочками: горько? пресновато? немножко чабреца? или щепоть копченой сырной плетенки, придающей шулюму шелковистую плотность?
Симфония. Molto allegro – первая часть симфонии №40 Вольфганга Амадея Моцарта. Горячую сурпу я отхлебываю из кружки мелкими глоточками, и именно они, эти неторопливые, осторожные глоточки наполняют тело сытым умиротворением. Нечто похожее бывает, когда в городской квартире, вымороченной предзимней стылостью, внезапно включается центральное отопление, наполняя требуху чугунных батарей благостным теплым урчанием. И ты плывешь под его заботливой опекой, будто прислонившись к родному псу.
Фото из архива автора