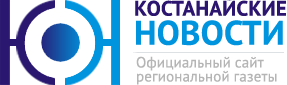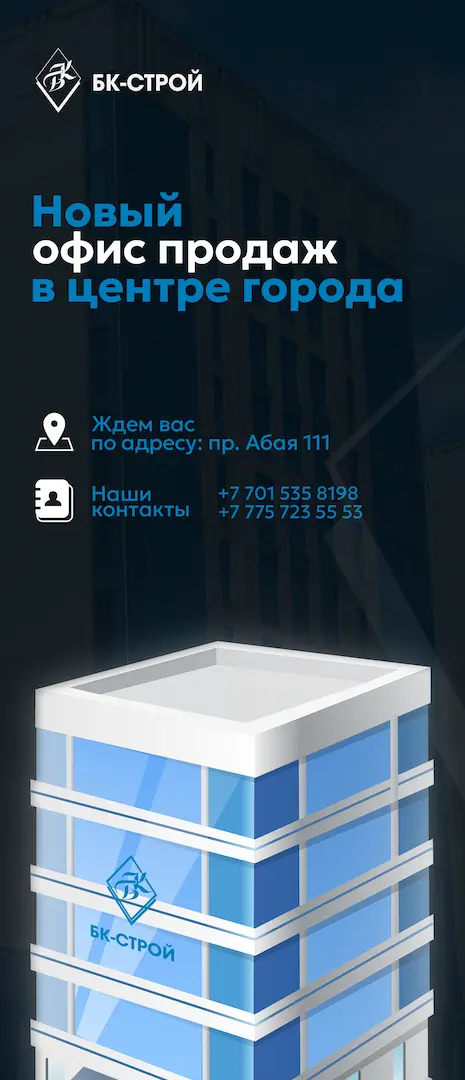О простых смертных и о бессмертной литературе – наш разговор с профессором КРУ им. А. Байтурсынова, кандидатом философских наук, историком и публицистом Юрием БОНДАРЕНКО.

Понять Чапаева и Белую гвардию
– Юрий Яковлевич, в газете нет места для предисловий. Первый же вопрос о войне. И о литературе. Не раз было сказано, что война дает великих поэтов и прозаиков. Это бесспорная истина?– Прочитайте Алексея Симонова: его рассказ об отце контрастирует с поисками сенсационных пятен на тех или иных именах. Для меня Константин Симонов один из особо исторически значимых советских авторов. Не просто стилист, мастер, талант, гений, а еще и окошко в мир живой истории. Других интересует его личная жизнь и отношения со Сталиным. Все это спаяно – по объемности, масштабам и многоцветию живого опыта Симонов один из трех советских авторов двадцатого века, которые вобрали в себя наибольшее разнообразие оттенков истории, и прежде всего историю человеческой души.
– Кого еще ставите в ряд с Симоновым?
– Горького и в определенной мере Евтушенко. Где-то рядом Алексей Толстой, Михаил Булгаков и туманный для меня, как далекое созвездие, Илья Эренбург. Это не значит, что другие слабее или менее художественны. Я касаюсь только граней жизненно-исторического опыта, соприкосновений с историческими событиями и персонажами.
Упомянутые Толстой и Булгаков оказались вовлеченными в разные повороты исторической карусели, и советский читатель не от диссидентов, а от писателей-сограждан получил шанс понять, скажем, мир Белого движения. От неистового поклонения Чапаеву с шашкой наголо до трагедии Белой гвардии дистанция огромного размера. Ее невозможно преодолеть только по учебникам – именно искусство способно донести эпичность, цвет и нерв событий.
На грани жизни и смерти
– Военная поэзия Симонова несла любовь идеальную – «Жди меня» – и неидеальную – «Ты говорила мне «люблю», но только по ночам сквозь зубы». Что превалировало, на ваш взгляд?– Опыт. Горчайший – на грани жизни и смерти – который и вошел во все его книги. А как же иначе? Однако воспринимается он по-разному. Неслучайно одна из оценок в рассказе сына поэта неожиданно, но резко родила у меня стремление возразить. Алексей Симонов совершенно справедливо говорил о том, что именно эмоциональность сделала стихи Симонова близкими миллионам: отсыревшей спичкой костер не разожжешь. И выделяет при этом посвященное одной из самых его жарких любовей: «Жди меня...».
Интересно, что в электронных СМИ как-то появилось упоминание о том, что и у немцев была песня почти в точно таком же духе. Ничего обескураживающего в этом нет – другой вопрос, что надо бы и проверить, была ли такая песня у немцев. «Жди меня» по духу своему молитва. А молятся по разные стороны фронта. Но вот о «Фотографии» Алексей Симонов отозвался как о стихотворении холодном: «Я твоих фотографий в дорогу не брал».
В блиндаже на полу
– Объясните тем, кто не видел девичьих лиц на фотографиях, разбросанных на дне окопов и блиндажей...– В самом деле, из последней строфы выпархивает такая легковесная строка: «Я не брал фотографий. В дорогу, на что они мне?». Но для меня эти стихи одни из самых великих во всей мировой литературе. Они написаны в 1939 году после разгрома советскими войсками «далеко на Востоке» японцев. Победа! Но какие же неожиданные чувства и ассоциации рождает она у поэта – те, которые могут прийти только на месте событий:
«Никогда не забуду после боя
палатку в тылу,
Между сумками, саблями и
термосами,
В груде ржавых трофеев,
на пыльном полу,
Фотографии женщин
с чужими косыми глазами...
И на всех фотографиях,
даже на тех, что в крови,
Снизу вверх улыбались
запоздалой бумажной улыбкой.
Взяв из груды одну,
равнодушно сказать: «Недурна»,
Уронить, чтоб опять
из-под ног, улыбаясь, глядела.
Нет, не черствое сердце,
а просто война:
До чужих сувениров
нам не было дела».
Разве это не поразительно? Поэт, словно предвосхищая сорок первый, представляет, что то же самое может случиться уже не с врагом, и фотография уже Его Женщины окажется под чужими равнодушными ногами и взглядами. Сопоставьте сами эти стихи с «Куклой», написанные уже в 1941-м, «Мы не увидимся с тобой» о друзьях погибшего и о женщине, еще не знавшей о том, что погиб ее любимый, и вспоминавшей его еще живым:
«Печальна участь нас, друзей,
Мы все поймем и не осудим
И все-таки – о мертвом ей
Напоминать некстати будем».
Не хотелось бы разжижать сгусток чувств своими словесными излияниями, и все же представьте сегодня, что пройдут сотни лет, и человечество еще не погибнет, мало того, и от нашей нынешней культуры сохранится немало. Но при этом талантливейшие, виртуозные строки, впаянные в современность образы, аллитерации, ассоциативные цепочки окажутся близкими лишь узкому кругу профессионалов будущего. А вот такое, не только симоновское, войдет в будущее.
Между прошлым и будущим
– И в настоящем хотелось бы оставить. Даже в Интернете нет ни строчки о том, что Константин Симонов приезжал в Кустанай. Был такой миг в истории – между прошлым и будущим.– Много лет назад я писал Льву Анненскому – мы с ним были по-доброму знакомы, – что в мировом масштабе Симонов значимее нашумевшей гроссмановской «Жизни и судьбы». Почему? Сопоставление сталинизма и гитлеризма было и до Гроссмана. Хотя в его дневниках, опубликованных уже его женой, немало исторически бесценного. А если уж о Симонове, то найти бы первый том моей «Культуры в лицах» – о нашем Николае Кочине. Симонов читал по Всесоюзному радио его стихотворение. Будучи в Кустанае, предлагал с ним встретиться, а тот застеснялся. Правда, была совместная фотография. Но какая! Понабежали «шишки», и Кочин, которому и предлагал Симонов фотографироваться, оказался во втором ряду. Рядом же с поэтом постояли наши чины от культуры.
«Неизвестно, что раньше кончится...»
– В фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны», по Симонову же снятом, актриса Гурченко поет: «Это жизнь идет, и война идет – неизвестно, что раньше кончится». Война рядом – во времени и пространстве, наша тема обусловлена ею.– То, что началось в феврале, не приемлю, но и отстраниться не могу. Вот Асмолов – известный доктор психологических наук – рассуждает, что нелепо ненавидеть русских и украинцев как таковых. Конечно, это бесспорно. Но дальше вспоминает, что в годы войны Шолохов, Симонов, Эренбург призывали «убить немца». И – внимание! – рассуждает, что «убить немца» все равно, что убить Гете», а, к примеру, француза – равно, что Вольтера. Для меня это чудеснейшая дичь, а как отреагируют студенты? Ведь упущено элементарное: одни и те же слова, как и сосуды для смыслов, могут быть заполнены разным содержимым.
В первые годы войны «убить немца» означало «убить врага, пришедшего на нашу землю, и ничего больше. Позже острие пропаганды менялось. Были, конечно, и дикости с нашей стороны, но эталон-то – памятник советскому солдату с немецкой девочкой на руках. Начиная с Перестройки, стало до банальности модно отождествлять СССР и нацистскую Германию. Но можно ли представить захваченную гитлеровцами Москву, где поставили бы памятник немецкому солдату, спасшему «неполноценную» русскую девочку?
Беседу вела Людмила ФЕФЕЛОВА
Автор благодарит Алексея Олексюка за помощь в подготовке материала.