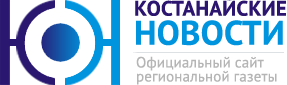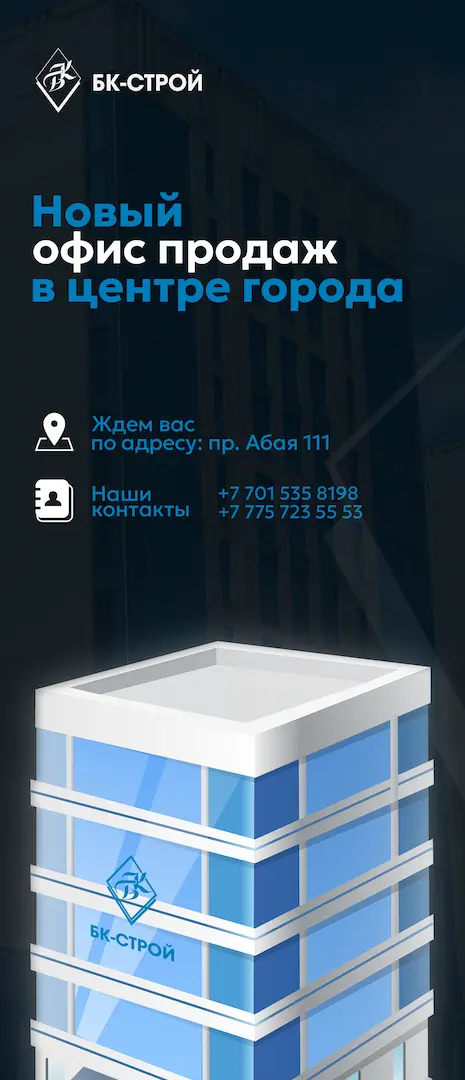«Комсомолка! Уходи скорее, фашисты идут! Уходи!» – истошный крик разбудил трехлетнюю Милу, захныкал годовалый Виталик. Прасковья БЛИНКОВА выбежала из избы, кинулась к лесу. С собой уносила самое дорогое – двоих детей и... чистые тетради.

Учительница
Ее уже нет в живых. Но тогда Прасковья Блинкова не погибла. Добралась до своих, стала партизанкой, была политруком в женском подразделении отряда имени Свердлова, который был образован на Брянщине 2 февраля 1942 года. Годовалый Виталик и трехлетняя Мила были с ней до осени 42-го. Потом Прасковья заболела тифом. Детей на самолете отправили на Большую землю, в Москву. Оттуда в Ярославскую область, в детский дом. Лишь в 1943 году, после того как Советская армия освободила Орловскую область (Брянские леса), мать смогла найти своих детей. После вернулись в родной поселок, дотла сожженный фашистами. Восстанавливали, работали. Первыми отстроили школу и медпункт...
Наград у Прасковьи Блинковой немало: ордена и медали за военные операции, за доблестный труд в мирное время. Она всю жизнь работала учителем, директором школы. А как ушла на пенсию, перебралась вместе с дочкой в Костанай – друзья позвали. Людмила к тому времени закончила в Москве институт, получила образование технолога. Здесь до пенсии работала на КСК мастером. Прасковья Георгиевна, несмотря на то что уже была пенсионеркой, занималась общественной деятельностью: работала в детской комнате милиции, встречалась со школьниками.
Десять лет назад Прасковьи Георгиевны не стало. К сожалению, она уже не расскажет о том, сколько слез пролила по мужу, пропавшему на фронте без вести, не поведает, как это: идти по болотам с двумя маленькими детьми, уносить их от опасности, защищать их. И об операциях, в которых участвовала, будучи партизанкой, тоже не расскажет. Но вот дочь Прасковьи Георгиевны Людмила Блинкова рассказала и о маме, и о том, что помнит сама.
О том, что Людмила Федоровна дочь партизанки, я узнала случайно. Героиня долго отказывалась от статьи, говорила, что мама не любила никогда внимания к себе привлекать. Но мне удалось уговорить, убедить поделиться рассказом. Может быть, его прочитает кто-то, для кого Великая Отечественная сегодня – это пара страниц в школьном учебнике. И может быть, эти страницы оживут. Только так мы можем сохранить память...

Papier и барометр
В переводе с немецкого papier означает бумага. Когда Людмила Блинкова в школе начала учить немецкий, удивлялась – некоторые слова казались ей знакомыми. Особенно это. А потом мама рассказала почему.
– Она ведь в лес чистые тетради утащила для того, чтобы приберечь до времени, как вернется, – рассказывает Людмила Блинкова. – Мама переживала: ведь после войны детям учиться надо будет. А тогда тетради были просто драгоценными. На газетах же писали. Часть тетрадей мама в погребе припрятала, но там ничего не осталось, всё сгорело. И эти тоже не уберегла: когда мы с места на место переходили, мама делала шалаш специально для того, чтобы тетради прятать. Каждый раз новый строила. И вот однажды пришли забирать, да не успели. Немцы вышли на этот шалаш. Мама нас схватила и бежать. А они: «Папир! Папир!». Бумаги увидели. Думали, может, документы какие. Чудом мы тогда успели убежать...
Людмила Федоровна говорит, что из того периода помнит не очень многое. Какие-то воспоминания мамиными рассказами потом дополнялись.
– Помню, как мы по болотам ходили. Там надо было с кочки на кочку шагать, да еще быстро. А у меня ножки коротенькие, я с кочки на кочку не попадала, в холодную воду всё время наступала. Ноги сильно болели, в болячках были долго.
Как раз на этих болотах ей удалось несколько раз спасти родных. Так мама говорила. Барометром дочку называла. На привале сядут, затаятся. Тихо, спокойно. Полуторагодовалый Виталик на руках у мамы спит. А трехлетняя Мила хныкать начинает: «Мама, ну пойдем отсюда! Мамочка!». Мама детей берет, только отойдут, слышат, самолет, свист и бомба летит. И прямо в то место, где еще недавно они сидели. Прасковья отвернется, плачет. Дочку целует. За те полгода, что дети с ней в партизанском отряде провели, сердце изболелось за них. А потом помог недуг: Прасковья заболела тифом и детей с сопровождающей – учительницей-пенсионеркой – отправили на Большую землю.

Воробушки
– Я на работе раньше иногда рассказывала о том, как мы жили в детском доме. Одна коллега плакала все время. Я ей говорила: «Да что вы! Это ведь все прошло уже», – вспоминает Людмила Федоровна. Ей 80, она бодра, энергична, соседей оптимизмом заряжает. И это после того, что довелось пережить...
Детдом, в который направили Милу и Виталика, был в Ярославской области. В нем жили в основном дети, которых вывезли из блокадного Ленинграда. Людмила рассказывает, что были они обычными: неозлобленными, немрачными. Вот только постоянно хотели есть.
– Кормили нас картошкой в основном. И гречку еще давали, затхлую такую. То ли лежала долго где, то ли намокла, и потом высушили ее. Воспитатели наши ночью картошку на завтрак чистили. А мы не спим, ждем. Как только выйдут, мы все из своих кроватей: очистки едим. Грязные – так простынями вытираем. Нас не ругали за грязные простыни почему-то. Один раз только влетело, когда мы очистки помыли в той воде, где картошка была. Больше так делать не стали. Схватишь и простыней все вытираешь. Ешь. А летом столы на улице ставили, во дворе, под яблонями. Их когда убирали, под столами крошки оставались. Мы как воробьи налетали: палец оближешь и собираешь крошки на земле.
«И меня, мама! И меня!»
– Мама когда приехала, я ее узнала. Хотя, может, потому, что до этого девочка одна забежала в нашу группу и кричит мне: «Мила, там твоя ма...» Только это и успела сказать, ее воспитательница остановила. Я в коридор выбежала, смотрю, женщина. Смотрю – да это же мама! Обняла ее. Плачет она. А я к Виталику бегу: «Виталичек, посмотри, это же мама наша!» А он ее не помнит, куксится, у него флюс еще был тогда...
Людмила рассказывает, что маму директор детдома очень уж уговаривал остаться у них. Учителя нужны были. Но она рвалась на родину, родной поселок восстанавливать. В детском доме несколько дней провела. Заходила каждый вечер к детям, поцеловать их на ночь. В групповой комнате кровати на ночь делали из школьных парт. Сдвигали и клали матрасы.
– Мы с Виталей рядом спали. Ночью толкались, проваливались иногда, конечно, – улыбается Людмила Федоровна. – Ну ничего. Как мама приехала, мы ждали вечера, ждали, что она придет спокойной ночи нам пожелать. Она нас обнимет, поцелует. А ребята другие видят это, каждый кричит: «Мама! Мама, и меня!». Она обойдет их всех, поцелует. Опять же ей хочется к нам подойти. И все снова кричат: «И меня, мама! И меня!». Поцелует опять всех, выйдет за дверь и плачет, плачет...
Егорьевна из Салтановки
Военных фотографий мамы у Людмилы нет. Не до фото было тогда. Единственный снимок тех лет – как раз в детском доме, когда мама забирала детей (фото сверху). Виталик с флюсом, Мила растянула губы. «Мне все говорили: улыбайся! – вспоминает она. – Нет бы сказать: засмейся. Это я знала. А улыбаться и не знала как».
Есть много фото уже послевоенных лет. Мама в школе, мама с друзьями по партизанскому отряду – после войны встречались часто. Мама с ребятами-поисковиками своими: находили они в лесах могилы убитых бойцов, искали их родственников, списывались. Приезжали в Салтановку люди со всего Союза, останавливались в доме учительницы Прасковьи.
Егорьевна – звали ее односельчане. Уважали за принципиальность, строгость и непременную готовность помочь. Прасковья писала письма всей деревне: народ в большинстве неграмотный был. Вот придут вечером к учительнице, расскажут, о чем написать надо, она и напишет.
В доме у Прасковьи всегда жили братья, сестры – приезжали к ней надолго. Она успевала и самодеятельностью руководить, и продолжала параллельно с учительской, а потом и директорской деятельностью вести общественную: политучебу, выступала с лекциями...
Пашуня – так ее ласково называли в отряде. Она хорошо пела и играла на гитаре. Она воодушевляла товарищей на борьбу. И параллельно выиграла собственную войну – спасла детей.
Умерла Прасковья Георгиевна в Костанае, похоронена на городском кладбище.
Мария ШИЛО
Фото Константина ВИШНИЧЕНКО